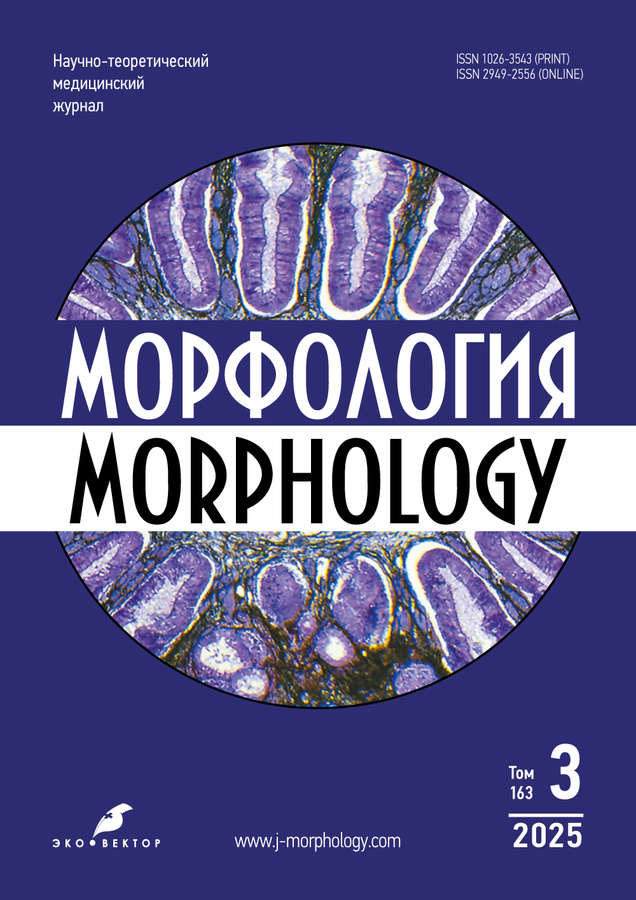Experimental models of chronic wounds
- Authors: Kopylov E.D.1,2, Presnyakov E.V.1,2, Tolgsky M.V.3, Andreeva A.N.3, Somov N.A.3, Revkova M.V.3, Bozo I.Y.1,2
-
Affiliations:
- Histograft LLC
- Petrovsky National Research Centre of Surgery
- North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
- Issue: Vol 163, No 3 (2025)
- Pages: 176-185
- Section: Reviews
- Submitted: 01.02.2025
- Accepted: 05.03.2025
- Published: 06.08.2025
- URL: https://j-morphology.com/1026-3543/article/view/646869
- DOI: https://doi.org/10.17816/morph.646869
- EDN: https://elibrary.ru/VRETTE
- ID: 646869
Cite item
Abstract
Management of chronic, non-healing wounds is one of the pressing challenges in surgery. Demonstrating the effectiveness of novel drugs and medical devices is essential for their implementation in clinical practice. For this purpose, many animal models of wound healing have been developed, including in small rodents, which, however, have a specific skin structure and soft tissue regeneration. This review presents comparative characteristics of the main experimental wound models, including chronic ones, and describes their benefits and limitations.
Experimental studies most commonly involve mice, rats, and rabbits due to their relatively low cost and ease of maintenance. The most widely used wound modeling method is the creation of an excisional skin defect (with or without modifications) on the back of rodents. This model is technically simple and allows for partial reproduction of various pathological conditions. Although none of the models fully replicates the chronic wound healing process, modeling in small rodents (mice, rats) and rabbits remains the primary approach for studying regeneration and evaluating the efficacy of therapeutic interventions. Excisional and incisional wound models on the back of rodents are popular due to their simplicity and reproducibility. However, a significant limitation of these models is rapid wound closure by contraction, which is uncharacteristic of human healing. Chronic wound models (splinting, tail wounds in mice or ear wounds in rabbits, hyperglycemia, and others) more accurately reproduce the healing process and better reflect clinical situations. The choice of a specific model depends on the study aims and the species-specific features of laboratory animals. Moreover, the short healing period in animals often limits the ability to assess treatment efficacy. Improving and standardizing existing wound models, as well as developing novel experimental approaches, remain important tasks for regenerative medicine and surgery.
Keywords
Full Text
INTRODUCTION
Chronic non-healing wounds, including trophic ulcers, extensive burns, and skin changes associated with diabetic foot syndrome, represent one of the major challenges in surgery and public health. According to epidemiological studies, the estimated prevalence of chronic wounds is 1%–2% of the global population [1]. Chronic wounds are associated with prolonged pain and may be complicated by sepsis. In diabetes mellitus, chronic defects of the skin and soft tissues of the foot (diabetic foot syndrome) often lead to lower limb amputation. Despite many therapeutic approaches proposed for the management of such wounds, the development of effective treatment strategies remains a pressing issue [2].
Mice, rats, and rabbits are most commonly used to model acute and chronic wounds in experimental settings. Several fundamentally different approaches to wound creation can be distinguished: excisional (removal of a tissue fragment), longitudinal incisional (surgical incision of tissues), burn models, adhesive tape methods, and exposure to X-irradiation. Other techniques are generally modifications of these basic approaches.
CHOICE OF EXPERIMENTAL ANIMALS
The choice of animal species is a crucial step in experimental design and should be based both on general aspects, including the anatomical and physiological characteristics of the species, and on practical considerations such as cost, availability, and housing requirements. The skin structure of rodents and rabbits differs considerably from that of humans (Table 1): their skin is thinner and more mobile relative to underlying layers; sweat glands are absent on the trunk, and wound healing occurs primarily through contraction due to the presence of the subcutaneous muscle m. panniculus carnosus. Additionally, animal skin is characterized by a high density of hair follicles, and some rodent species are capable of endogenous vitamin C synthesis, which promotes collagen formation [3–6]. Table 1 and Table 2 show comparative characteristics of selected experimental animals.
Table 1. Skin structure in experimental animals and humans
Parameter | Human | Mouse | Rat | Rabbit (New Zealand breed) |
Skin thickness, mm | 2.0–3.0 | 0.4–1.0 | 1.0–2.0 | 1.8–2.0 |
Hair density, hairs/cm2 | 20–50 (trunk) 500–1000 (scalp) | 658 | 289 | 80 |
Presence of eccrine sweat glands | Yes | Yes (on plantar surfaces of forepaws and hind paws) | Yes (on palmar surfaces of forepaws and hind paws) | No |
Mobility relative to underlying tissues | No (except cervical region) | Yes | Yes | Yes |
Endogenous synthesis of vitamin C | No | Yes | Yes | Yes |
Primary wound healing mechanism | Re-epithelialization | Contraction | Contraction | Contraction |
Note: Scalp, hairy part of the head.
Table 2. Comparative characteristics of laboratory animals used for wound modeling
Experimental Animal | Advantages | Disadvantages |
Mouse | Small size; convenient housing; numerous transgenic lines; wide availability of species-specific antibodies; tail wound model is considered a chronic wound [3] | Mouse skin differs from human skin; chronic non-healing wounds are not typical; wounds heal primarily by contraction; wound models require modification to prolong healing |
Rat | Relatively inexpensive; convenient housing; larger than mice, which allows for larger wound areas; widely used | Same limitations as in mice |
Rabbit | Readily available and widely used; large wound surface area can be created; wound healing in the ear pinna is similar to humans | More expensive than mice and rats; ischemic ear model is poorly reproducible; ischemia is reversible |
EXPERIMENTAL MODELS OF ACUTE WOUNDS
Various techniques are used to create experimental skin wounds, and their main characteristics are summarized in Table 3. The most common approach to evaluation of comparative healing dynamics is the excisional wound model on the dorsal surface of rodents [7–9]. Published experimental protocols are highly variable—they differ in wound size, number of wounds per animal, and methods of assessing wound healing [10, 11]. It is well established that the rate of healing is influenced by the stage of the hair growth cycle, because regenerative processes and hair growth are partially regulated by common intracellular signaling pathways, including fibroblast growth factor (FGF), vascular endothelial growth factor (VEGF), and transforming growth factor beta (TGF-β) [12]. For this reason, some authors recommend using animals in the late catagen or telogen phase [13].
Table 3. Experimental models of acute wounds
Model | Description | Advantages | Disadvantages |
Excisional model | Creation of full-thickness skin wounds of various diameters on the dorsum, involving the m. panniculus carnosus | One of the primary models; technically simple; creating wounds of various sizes; | Healing occurs predominantly by contraction; does not reproduce chronic wound processes |
Incisional model | Longitudinal full-thickness skin incision on the dorsum | One of the primary models; technically simple; high reproducibility; enables evaluation of scar formation and postoperative wound healing | Same as in the excisional model |
Burn model | Burn injuries induced using: • heated metal rods; • hot water; • steam; • electricity | Technically simple | Rapid healing due to contraction; does not reproduce the pathophysiological processes of burn wound healing in humans |
Adhesive tape model | Repeated attachment and removal of adhesive tapes on the dorsum of rodents | Technically simple; non-invasive; minimal pain for animals; reproduces the epithelialization stage in humans | Only superficial wounds can be created (stratum corneum defects); does not reproduce chronic wound processes; low reproducibility due to difficulty in standardizing adhesive strength, detachment speed, and angle |
Another approach to wound modeling involves creating a longitudinal (incisional) skin wound on the back of the animal with sharp instruments such as a scalpel or scissors [14, 15]. The healing process of such wounds may be classified as primary intention or secondary intention, depending on whether the wound edges are approximated. Primary healing, achieved by suturing wound margins, enables the evaluation of re-epithelialization, testing of surgical materials, and investigation of repair mechanisms, though to a lesser extent, because the volume of injured tissue is limited. Secondary healing occurs when the wound is left open and is used to study scar formation, including the development of hypertrophic scars [14].
Burn injuries induced by heated objects, hot water, or, less commonly, electricity are also widely applied as a method for creating acute wounds. Thermal injuries are well suited for assessing re-epithelialization, granulation tissue formation, neovascularization, and other processes of tissue regeneration. Depending on the experimental objectives and the intended observation period, the surface area of thermal injury can be adjusted, allowing for an extended window to evaluate the effects of experimental therapies [16–19].
The use of adhesive tape stripping to create wounds is the least common approach. This model induces partial skin injury limited to the stratum corneum of the epidermis and is primarily designed to study re-epithelialization in acute injury. It is also well adapted for assessing barrier function impairment. However, because this method does not involve deeper dermal injury, it is unsuitable for investigating the mechanisms of damage and regeneration in full-thickness wounds. Furthermore, the technical aspects of tape application complicate standardization [9].
EXPERIMENTAL MODELS OF CHRONIC WOUNDS
Unlike acute wounds, which are characterized by sequential healing phases (coagulation, inflammation, migration-proliferation, and remodeling) and relatively predictable time frames, chronic wounds lack such clear phase-dependent and temporal characteristics [20]. Delayed healing of chronic wounds is driven by both isolated and combined factors, including damage to components of the microcirculatory bed and innervation (as in diabetes mellitus), local tissue compression (edema), and persistent immune cell accumulation. One of the main limiting factors in modeling chronic wounds in rodents and rabbits is their inherent capacity for rapid healing. Therefore, investigators reproduce conditions that mimic pathological processes typical of humans so that the duration of skin regeneration is extended artificially.
The splinting technique involves the implantation of splints, most often silicone rings, into wound margins, physically preventing contraction of the panniculus carnosus. This approach shifts healing from contraction toward granulation tissue formation and re-epithelialization, thereby prolonging the regeneration period [21–23]. Another approach is the skin-fold chamber model, where a skin flap is clamped with a device that creates a defect. Originally intended for in vivo microcirculatory studies rather than wound healing per se, this model also enables visualization of small vessels during primary and secondary healing [24, 25].
Acute wound models supplemented by additional factors can partially reproduce pathological processes of chronic wound regeneration. One such factor is experimentally induced hyperglycemia [26–29]. Diabetic animal models can be generated using chemical or surgical interventions, as well as specialized diets. Furthermore, transgenic mouse strains such as db/db (type 2 diabetes) and ob/ob (obesity) are available [30]. Chemical induction with agents such as streptozotocin or alloxan is a rapid and accessible method, but it does not fully reproduce the natural course of disease. Transgenic strains avoid this limitation, but substantially increase research costs.
Limitations of diabetes models and transgenic lines prompted the development of alternative approaches to create skin defects with prolonged healing. One such model is the mouse tail skin excision wound, where an excision of 0.5 × 1.0 cm is made on the dorsal tail surface, 0.5–1.0 cm distal to the trunk [31]. Unlike standard dorsal excisional wounds in mice or rats, this model heals within 18–25 days, providing a sufficiently long observation period to evaluate therapeutic interventions. A similar technique involves creating wounds on the plantar surface of rodent paws [32, 33]. Rectangular wounds of approximately 2 × 5 mm are made on rat hindlimbs to study inflammation, contraction, and epithelialization; diabetic animals can also be included in such experiments.
Due to structural features of rabbit ear skin (firm attachment to underlying cartilage), auricular wounds predominantly heal by epithelialization and granulation, which corresponds to the late phases of human wound healing [34, 35]. Additional factors that impair skin restoration in this model include hyperglycemia, as well as ischemia and denervation following transection of neurovascular bundles [36]. Chemical or surgical denervation of other skin regions can also be used to investigate the role of the nervous system in cutaneous regeneration [37–40].
Infected wounds in humans often complicate chronic defects, thus requiring the development of new therapeutic strategies and corresponding animal models. To reproduce infected wounds, investigators combine acute injuries with inoculation of pathogenic microorganisms or insertion of foreign materials [41–43]. Suspensions of microorganisms such as Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, or Candida albicans are applied onto excisional wounds on the dorsal or ventral trunk, producing infectious, often purulent, complications. This model is widely used for evaluating the pharmacodynamics of antimicrobial drugs and medical devices.
Radiation therapy for cancer may cause skin injury with markedly delayed regeneration. This necessitated the development of radiation-induced wound models in animals, which are used both for studying complications of radiotherapy and for creating chronic wounds in general. In these models, skin on the dorsum or limbs of rodents is irradiated at various doses, followed by excision of a flap in the irradiated area [44–47]. High doses of radiation produce delayed healing but require specialized equipment, technical expertise, and shielding of the animal body to avoid lethal exposure.
The dead space model is created by subcutaneous or intramuscular implantation of foreign bodies, such as polypropylene tubes, producing cavities similar to those that develop in humans after soft-tissue excision and closure of postoperative defects. This model, usually performed in rabbits, is convenient for assessing implant responses. Multiple “dead spaces” can be created in a single animal; the defect size is clinically relevant, and outcomes can be evaluated by histological, laboratory, and instrumental methods [48].
Restoration of blood flow after ischemia due to prolonged compression is pathophysiologically similar to pressure ulcer development [49]. Implantation of magnets under the skin with periodic compression by an opposing magnet mimics this condition [50]. This model has been successfully applied in mice and rats. Magnetic compression markedly reduces skin perfusion, decreases trophic factor levels, and increases exudate formation. Depending on the study design, the degree of injury can be varied by altering compression duration and ischemia/reperfusion cycles [51–53]. Chronic ischemic ulcers may also be induced by sustained compression of a skin fold without magnet implantation.
CONCLUSION
At present, the published data describe numerous approaches to modeling wounds in animals, which, to varying degrees, reproduce the pathological processes observed in humans [54]. Mice, rats, and rabbits are most frequently used in such studies because of their relatively low cost and ease of maintenance. The most common method is the creation of an excisional skin defect on the back of rodents, owing to its reproducibility and technical simplicity. In addition to the structural features of rodent skin, model selection should take into account the specific research objectives and the ability to create conditions that closely approximate clinical situations. The main limiting factor of all described models is still the duration of wound healing: first, it is not comparable with the actual timeframe of skin repair in humans; second, it is often insufficient for evaluating the pharmacodynamics of investigational drugs. In this regard, some approaches have been developed and validated. They allow modeling chronic wounds, including excisional skin defects on the mouse tail or rabbit ear, as well as the use of transgenic animal lines, such as diabetic mice [55].
CONCLUSION
Existing wound models do not fully reproduce clinical conditions characterized by chronic, protracted healing of skin defects. They only partially reflect the pathophysiological processes occurring in humans with diabetes mellitus, chronic limb ischemia, radiation injury, and other conditions. Moreover, outcomes obtained with the same models often vary among different investigators and are not always reproducible. Despite the active development of new wound therapies, including agents targeting chronic processes, there is still an urgent need to establish, validate, and implement standardized protocols for modeling both acute and chronic wounds. Such protocols should provide high reproducibility and maximum fidelity to the pathological processes specific to relevant clinical scenarios.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: E.D. Kopylov: sources review, formal analysis, writing—original draft; E.V. Presnyakov: sources analysis, writing—review & editing; M.V. Tolgsky: collection and analysis of sources, writing— review & editing; A.N. Andreeva: collection and analysis of sources, writing—original draft; N.A. Somov: collection and analysis of sources, writing—review & editing, visualization; M.V. Revkova: writing—review & editing, visualization, project administration; I.Ya. Bozo: supervision, writing—review & editing, project administration. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: The authors declare no external funding was received for conducting the study.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Data availability: The editorial policy regarding data sharing is not applicable to this work, as no new data was collected or generated.
Generative artificial intelligence: No generative artificial intelligence technologies were used in the creation of this article.
Review and peer review: This work was submitted to the journal on an unsolicited basis and reviewed through the standard procedure. The review process involved two external peer reviewers, a member of the editorial board, and the journal's scientific editor.
About the authors
Evgeniy D. Kopylov
Histograft LLC; Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: zhenya.lopylov@mail.ru
ORCID iD: 0009-0008-9927-5608
SPIN-code: 1118-4358
Russian Federation, Moscow; Moscow
Evgeniy V. Presnyakov
Histograft LLC; Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: uvpres@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1546-5129
SPIN-code: 4001-4715
Russian Federation, Moscow; Moscow
Mikhail V. Tolgsky
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: MVTolgskiy@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-2884-0565
SPIN-code: 2066-9164
Russian Federation, Saint Petersburg
Anastasia N. Andreeva
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Author for correspondence.
Email: Mmm.andreeva7728@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8871-3317
SPIN-code: 5603-0036
Russian Federation, Saint Petersburg
Nikita A. Somov
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: Workszgmu@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1514-589X
SPIN-code: 2582-1365
Russian Federation, Saint Petersburg
Maria V. Revkova
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Email: lame_horse15@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-9012-2492
SPIN-code: 2335-6969
Russian Federation, Saint Petersburg
Ilya Y. Bozo
Histograft LLC; Petrovsky National Research Centre of Surgery
Email: ilya-bozo-1989@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-0138-5614
SPIN-code: 9083-5715
Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Moscow; MoscowReferences
- Martinengo L, Olsson M, Bajpai R, et al. Prevalence of chronic wounds in the general population: systematic review and meta-analysis of observational studies. Ann Epidemiol. 2019;29:8–15. doi: 10.1016/j.annepidem.2018.10.005 EDN: OEYDZX
- Kathawala MH, Ng WL, Liu D, et al. Healing of Chronic Wounds: An Update of Recent Developments and Future Possibilities. Tissue Eng Part B Rev. 2019;25(5):429–444. doi: 10.1089/ten.TEB.2019.0019
- Grada A, Mervis J, Falanga V. Research techniques made simple: Animal models of wound healing. J Invest Dermatol. 2018;138(10):2095–2105.e1. doi: 10.1016/j.jid.2018.08.005
- Mustoe TA, O’Shaughnessy K, Kloeters O. Chronic wound pathogenesis and current treatment strategies: a unifying hypothesis. Plast Reconstr Surg. 2006;117(7 Suppl):35S–41S. doi: 10.1097/01.prs.0000225431.63010.1b
- Wang X, Ge J, Tredget EE, Wu Y. The mouse excisional wound splinting model, including applications for stem cell transplantation. Nat Protoc. 2013;8(2):302–309. doi: 10.1038/nprot.2013.002
- Choudhary V, Choudhary M, Bollag WB. Exploring skin wound healing models and the impact of natural lipids on the healing process. Int J Mol Sci. 2024;25(7):3790. doi: 10.3390/ijms25073790 EDN: VSLJSZ
- Rhea L, Dunnwald M. Murine Excisional Wound Healing Model and Histological Morphometric Wound Analysis. J Vis Exp. 2020;(162):10.3791/61616. doi: 10.3791/61616 EDN: WTKIEH
- Cogan NG, Mellers AP, Patel BN, et al. A mathematical model for the determination of mouse excisional wound healing parameters from photographic data. Wound Repair Regen. 2018;26(2):136–143. doi: 10.1111/wrr.12634
- Sami DG, Heiba HH, Abdellatif A. Wound healing models: A systematic review of animal and non-animal models. Wound Medicine. 2019;24(1):8–17. doi: 10.1016/j.wndm.2018.12.001
- Lou D, Luo Y, Pang Q, et al. Gene-activated dermal equivalents to accelerate healing of diabetic chronic wounds by regulating inflammation and promoting angiogenesis. Bioact Mater. 2020;5(3):667–679. doi: 10.1016/j.bioactmat.2020.04.018 EDN: HNHUCN
- Cogan NG, Mellers AP, Patel BN, et al. A mathematical model for the determination of mouse excisional wound healing parameters from photographic data. Wound Repair Regen. 2018;26(2):136–143. doi: 10.1111/wrr.12634
- Shestakova VG. Stimulated angiogenesis and its role in reparative skin regeneration. Journal of Anatomy and Histopathology. 2018;7(3):117–124. (In Russ.) doi: 10.18499/2225-7357-2018-7-3-117-124 EDN: VCJVFR
- Ansell DM, Kloepper JE, Thomason HA, et al. Exploring the “hair growth-wound healing connection”: anagen phase promotes wound re-epithelialization. J Invest Dermatol. 2011;131(2):518–528. doi: 10.1038/jid.2010.291 EDN: OASNWH
- Ansell DM, Campbell L, Thomason HA, et al. A statistical analysis of murine incisional and excisional acute wound models. Wound Repair Regen. 2014;22(2):281–287. doi: 10.1111/wrr.12148
- Gamelli RL, He LK. Incisional wound healing. Model and analysis of wound breaking strength. Methods Mol Med. 2003;78:37–54. doi: 10.1385/1-59259-332-1:037
- Blaise O, Duchesne C, Banzet S, et al. A murine model of a burn wound reconstructed with an allogeneic skin graft. J Vis Exp. 2020;(162):10.3791/61339. doi: 10.3791/61339 EDN: CXPOMY
- Calum H, Høiby N, Moser C. Burn mouse models. Methods Mol Biol. 2014;1149:793–802. doi: 10.1007/978-1-4939-0473-0_60
- Blaise O, Duchesne C, Banzet S, et al. A murine model of a burn wound reconstructed with an allogeneic skin graft. J Vis Exp. 2020;(162):10.3791/61339. doi: 10.3791/61339 EDN: CXPOMY
- Ulkür E, Oncül O, Karagöz H, et al. Comparison of silver-coated dressing (Acticoat), chlorhexidine acetate 0.5% (Bactigrass), and silver sulfadiazine 1% (Silverdin) for topical antibacterial effect in Pseudomonas aeruginosa-contaminated, full-skin thickness burn wounds in rats. J Burn Care Rehabil. 2005;26(5):430–433. doi: 10.1097/01.bcr.0000176879.27535.09
- Anichkov NN, Volkova KG, Garshin VG. Morphology of wound healing. Moscow: Medgiz; 1951. (In Russ.)
- Wang X, Ge J, Tredget EE, Wu Y. The mouse excisional wound splinting model, including applications for stem cell transplantation. Nat Protoc. 2013;8(2):302–309. doi: 10.1038/nprot.2013.002
- Arkhipova AY, Kulikov DA, Moisenovich AM, et al. Fibroin-Gelatin composite stimulates the regeneration of a splinted Full-Thickness skin wound in mice. Bull Exp Biol Med. 2019;168(1):95–98. doi: 10.1007/s10517-019-04656-0 EDN: TVCUVJ
- Park SA, Teixeira LB, Raghunathan VK, et al. Full-thickness splinted skin wound healing models in db/db and heterozygous mice: implications for wound healing impairment. Wound Repair Regen. 2014;22(3):368–380. doi: 10.1111/wrr.12172
- Laschke MW, Menger MD. The dorsal skinfold chamber: A versatile tool for preclinical research in tissue engineering and regenerative medicine. Eur Cell Mater. 2016;32:202–215. doi: 10.22203/eCM.v032a13
- Grambow E, Sorg H, Sorg CGG, Strüder D. Experimental models to study skin wound healing with a focus on angiogenesis. Med Sci (Basel). 2021;9(3):55. doi: 10.3390/medsci9030055 EDN: ESFBYU
- Furman BL. Streptozotocin-induced diabetic models in mice and rats. Curr Protoc. 2021;1(4):e78. doi: 10.1002/cpz1.78 EDN: ZEUGEE
- Kottaisamy CPD, Raj DS, Prasanth Kumar V, Sankaran U. Experimental animal models for diabetes and its related complications-a review. Lab Anim Res. 2021;37(1):23. doi: 10.1186/s42826-021-00101-4 EDN: KUPVAF
- Campos LF, Tagliari E, Casagrande TAC, et al. Effects of probiotics supplementation on skin wound healing in diabetic rats. Arq Bras Cir Dig. 2020;33(1):e1498. doi: 10.1590/0102-672020190001e1498 EDN: BXFJVX
- Nayaka SS, Krishna V, Narayana J, et al Diabetic wound healing activity of Elaeagnus conferta Roxb. leaf ethanol extract. Res J Biotech. 2023;18(11):154–164. doi: 10.25303/1811rjbt01540164 EDN: QCFQGA
- Michaels J 5th, Churgin SS, Blechman KM, et al. db/db mice exhibit severe wound-healing impairments compared with other murine diabetic strains in a silicone-splinted excisional wound model. Wound Repair Regen. 2007;15(5):665–670. doi: 10.1111/j.1524-475X.2007.00273.x
- Falanga V, Schrayer D, Cha J, et al. Full-thickness wounding of the mouse tail as a model for delayed wound healing: accelerated wound closure in Smad3 knock-out mice. Wound Repair Regen. 2004;12(3):320–326. doi: 10.1111/j.1067-1927.2004.012316.x EDN: FPBHQP
- Du Y, Wang J, Fan W, et al. Preclinical study of diabetic foot ulcers: From pathogenesis to vivo/vitro models and clinical therapeutic transformation. Int Wound J. 2023;20(10):4394-4409. doi: 10.1111/iwj.14311
- Yu CO, Leung KS, Fung KP, et al. The characterization of a full-thickness excision open foot wound model in n5-streptozotocin (STZ)-induced type 2 diabetic rats that mimics diabetic foot ulcer in terms of reduced blood circulation, higher C-reactive protein, elevated inflammation, and reduced cell proliferation. Exp Anim. 2017;66(3):259–269. doi: 10.1538/expanim.17-0016
- Chang L, Xu Y, Wu Z, et al. Hyaluronic acid methacrylate/laponite hydrogel loaded with BMP4 and maintaining its bioactivity for scar-free wound healing. Regen Biomater. 2023;10:rbad023. doi: 10.1093/rb/rbad023 EDN: HPJDHP
- Hu CH, Tseng YW, Chiou CY, et al. Bone marrow concentrate-induced mesenchymal stem cell conditioned medium facilitates wound healing and prevents hypertrophic scar formation in a rabbit ear model. Stem Cell Res Ther. 2019;10(1):275. doi: 10.1186/s13287-019-1383-x EDN: CXWTQV
- Alapure BV, Lu Y, Peng H, Hong S. Surgical denervation of specific cutaneous nerves impedes excisional wound healing of small animal ear pinnae. Mol Neurobiol. 2018;55(2):1236–1243. doi: 10.1007/s12035-017-0390-0 EDN: LPHUCL
- Trujillo AN, Kesl SL, Sherwood J, et al. Demonstration of the rat ischemic skin wound model. J Vis Exp. 2015;(98):e52637. doi: 10.3791/52637
- Lovasova V, Bem R, Chlupac J, et al. Animal experimental models of ischemic wounds - A review of literature. Wound Repair Regen. 2022;30(2):268–281. doi: 10.1111/wrr.12996 EDN: CNRNVQ
- Souza BR, Cardoso JF, Amadeu TP, et al. Sympathetic denervation accelerates wound contraction but delays reepithelialization in rats. Wound Repair Regen. 2005;13(5):498–505. doi: 10.1111/j.1067-1927.2005.00070.x
- Shu B, Xie JL, Xu YB, et al. Effects of skin-derived precursors on wound healing of denervated skin in a nude mouse model. Int J Clin Exp Pathol. 2015;8(3):2660–2669.
- Yarboro SR, Baum EJ, Dahners LE. Locally administered antibiotics for prophylaxis against surgical wound infection. An in vivo study. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(5):929–933. doi: 10.2106/JBJS.F.00919
- Kugelberg E, Norström T, Petersen TK, et al. Establishment of a superficial skin infection model in mice by using Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49(8):3435–3441. doi: 10.1128/AAC.49.8.3435-3441.2005
- Dai T, Kharkwal GB, Tanaka M, et al. Animal models of external traumatic wound infections. Virulence. 2011;2(4):296–315. doi: 10.4161/viru.2.4.16840 EDN: PHRCXZ
- Fujita K, Nishimoto S, Fujiwara T, et al. A new rabbit model of impaired wound healing in an X-ray-irradiated field. PLoS One. 2017;12(9):e0184534. doi: 10.1371/journal.pone.0184534
- Lee J, Jang H, Park S, et al. Platelet-rich plasma activates AKT signaling to promote wound healing in a mouse model of radiation-induced skin injury. J Transl Med. 2019;17(1):295. doi: 10.1186/s12967-019-2044-7
- Huang SP, Huang CH, Shyu JF, et al. Promotion of wound healing using adipose-derived stem cells in radiation ulcer of a rat model. J Biomed Sci. 2013;20(1):51. doi: 10.1186/1423-0127-20-51 EDN: GKYZIM
- Deshevoy YuB, Nasonova TA, Dobrynina OA, et al. Experimental conditions for the use of syngeneic multipotent mesenchymal stem cells (MMSCs) from adipose tissue for the treatment of severe radiation-induced skin lesions. Genes & Cells. 2019;14(3):77. (In Russ.) doi: 10.23868/gc122470 EDN: OTWUTF
- Oliver RA, Lovric V, Yu Y, et al. Development of a novel model for the assessment of Dead-Space management in soft tissue. PLoS One. 2015;10(8):e0136514. doi: 10.1371/journal.pone.0136514
- Peirce SM, Skalak TC, Rodeheaver GT. Ischemia-reperfusion injury in chronic pressure ulcer formation: a skin model in the rat. Wound Repair Regen. 2000;8(1):68–76. doi: 10.1046/j.1524-475x.2000.00068.x
- Takeuchi Y, Ueno K, Mizoguchi T, et al. Development of novel mouse model of ulcers induced by implantation of magnets. Sci Rep. 2017;7(1):4843. doi: 10.1038/s41598-017-05250-y EDN: ZWSLMN
- Stekelenburg A, Oomens C, Bader D. Compression-induced tissue damage: animal models. In: Bader DL, Bouten CV, Colin D, Oomens CW, editors. Pressure ulcer research. Berlin: Springer; 2005. P:187–204. doi: 10.1007/3-540-28804-x_12
- Stadler I, Zhang RY, Oskoui P, et al. Development of a simple, noninvasive, clinically relevant model of pressure ulcers in the mouse. J Invest Surg. 2004;17(4):221–227. doi: 10.1080/08941930490472046
- Wassermann E, van Griensven M, Gstaltner K, et al. A chronic pressure ulcer model in the nude mouse. Wound Repair Regen. 2009;17(4):480–484. doi: 10.1111/j.1524-475x.2009.00502.x
- Masson-Meyers DS, Andrade TAM, Caetano GF, et al. Experimental models and methods for cutaneous wound healing assessment. Int J Exp Pathol. 2020;101(1-2):21–37. doi: 10.1111/iep.12346 EDN: XASXEL
- Nunan R, Harding KG, Martin P. Clinical challenges of chronic wounds: searching for an optimal animal model to recapitulate their complexity. Dis Model Mech. 2014;7(11):1205–1213. doi: 10.1242/dmm.016782
Supplementary files